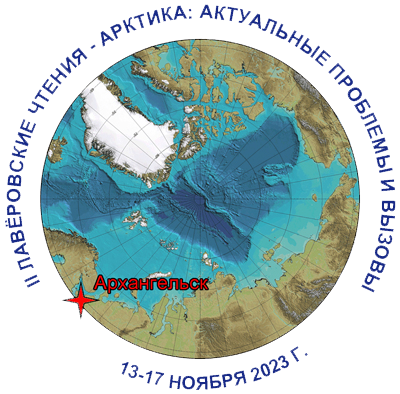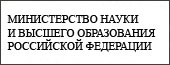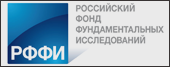В Федеральном исследовательском центре комплексного изучения Арктики побывал с рабочим визитом Максим Винарский, доктор биологических наук, профессор, зав. лабораторией макроэкологии и биогеографии беспозвоночных СПбГУ, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. Учёный поделился с пресс-службой научного центра имени академика Лавёрова своим вИденьем тенденций развития науки о биологическом разнообразии.
– Максим Викторович, как правильно обозначить область знаний, в которой вы работаете?
– По первой научной специальности я зоолог, специалист по моллюскам, но, поскольку работаю в области биоразнообразия, то, конечно, круг моих научных интересов шире – это и эволюционная биология, и экология, и биогеография, и систематика. Несколько лет назад я освоил ещё одну научную специальность – история биологии. Это закономерно, потому что история науки определяет закономерности её развития, и невозможно изучать современность, не понимая, что называется, «как мы дошли до такой жизни».

– Традиционный вопрос: что происходит с животным миром Арктики?
– За всю Арктику, конечно, не скажу, но мы уже четвёртый год работаем совместно с коллегами из центра имени академика Лавёрова по большому проекту, поддержанному РНФ, в рамках которого занимаемся изучением пресноводных экосистем Арктики. Причём не только в масштабах России, но всей циркумполярной зоны земного шара. У нас есть фокусные группы животных – моллюски, пиявки, некоторые таксоны ракообразных и рыб. Наша задача – выявить механизмы фауногенеза, то есть происхождение ныне живущих сообществ пресноводных животных, а также пути миграции видов в геологическом прошлом и в наши дни (благодаря деятельности человека).
По моим представлениям, в пресноводном аспекте Арктика до сих пор относительно хорошо защищена от разного рода воздействий. В частности, в высоких широтах сравнительно мало видов-вселенцев. Они подходят к границам Арктики, но в целом пока мы не наблюдаем их большого наплыва. Несмотря на то, что макрорегион интенсивно осваивается, его экосистемы пока не подвержены такой деградации, как наземные. Отчасти потому, что эти пресноводные экосистемы Арктики мало подверглись такому преобразующему воздействию человека, которое произошло, например, с Волгой или с Доном. В ходе интенсивного зарегулирования в ХХ веке Волга перестала быть проточным водоёмом и стала системой водохранилищ, которые соединяются небольшими сохранившимися участками русла. Фактически изменилась гидрология и фауна Волги. Фактически мы потеряли реку как естественный гидрологический объект, превратив её в нечто рукотворное.
В Арктике такого, к счастью, нет. Это связано с низкой плотностью населения, низкой концентрацией промышленности. В каком-то смысле Арктика сохраняет значение как заповедник биоразнообразия. Конечно, разнообразие это – низкое, но угрозы никто не отменял: происходят изменения климата, влияет добыча углеводородов. Пока Арктику спасает удалённость от всех центров и огромные масштабы этого региона. То же самое мы видим, например, в Канаде. Поэтому пока мы не наблюдаем каких-то драматических изменений. Хотя следить за ситуацией необходимо, потому что всё меняется.
– Часто приходится слышать, что арктические экосистемы крайне хрупки. Вы видите подтверждения этого тезиса в своей работе?
– Обычно такие выводы делаются на основе тундровых экосистем, которые действительно очень уязвимы, и даже малейшее воздействие очень долго «затягивается». По пресноводным животным у нас нет таких данных. Но наш проект направлен на изучение фундаментальных закономерностей; прикладной аспект в нём второстепенен, хотя, конечно, мы изучаем последствия вселения инвазивных видов и некоторые другие практически значимые аспекты.
К сожалению, человек сам невольно ставит эксперимент. Вспомните разлив нефти в Норильске два года назад. Эта авария, видимо, послужит модельным случаем для того, чтобы понять, насколько быстро могут восстановиться пресноводные экосистемы. Но это совсем особая область исследования, со своими специфическими методами и подходами. Нас больше интересуют вопросы фауногенеза, миграций. И временной масштаб у наших исследований – несколько миллионов лет. Арктические экосистемы очень молодые, но мы можем прослеживать изменения, происходящие в них, начиная ещё с доплейстоценовых времён.
– Насколько близка, на ваш взгляд, связь арктических видов с фауной Тибетского плато?
– Эту связь не следует понимать совсем буквально. Пожалуй, таких видов, которые, возникнув в Тибете, мигрировали вплоть до Арктики, нет. С другой стороны, предки шерстистых носорогов, песцов и некоторых других высокоширотных форм, действительно, возникли в Центральной Азии, в Тибете. С моллюсками ситуация несколько сложнее.
Одна из последних наших работ посвящена изучению эндемичных водных улиток, которые сформировались на очень большой высоте в Тибетском плато – выше 3,5 тысяч метров над уровнем моря. Это один из мировых рекордов высотности для этой группы. За последние 17-18 миллионов лет там сформировался новый род и 6-7 видов. Но за пределы своей высокогорной «колыбели» они продвинуться не смогли.
Это такой природный эксперимент, когда эволюционная дивергенция, с одной стороны, шла очень интенсивно – сформировался целый эндемичный род. С другой – все эти животные, как мы выражаемся, остались замкнуты в своей «колыбели» – высокогорной ловушке. Спуститься вниз они не могут. Их нет на южном склоне Гималаев, в индийской части.
Видимо, объяснение в том, что они гиперадаптированы, то есть настолько специализированы к среде, к высокогорному обитанию, что не способны вырваться за пределы исходного ареала. То ли их конкуренты не пускают, то ли они сами не способны жить ниже.
Поэтому Тибет хоть и является источником видового разнообразия, но не все возникшие там виды способны расширить места обитания. Не все современные арктические животные вышли из Тибета, но некоторые из них демонстрируют родственные связи с формами, обитающими в горах Центральной Азии.
Впервые эта идея была высказана в начале прошлого века великим русским путешественником Г. Е. Грумм-Гржимайло. Он был одним из первооткрывателей энтомофауны Центральной Азии. И он тоже писал применительно к чешуекрылым, что Тибет – это центр разнообразия бабочек. По его гипотезам, бабочки некоторых семейств, например, парусники, возникли где-то в горах Центральной Азии, а оттуда широко расселились, так что некоторые их потомки мигрировали вплоть до Южной Америки. В то время это было чистой гипотезой, но в чём-то он оказался прав: высокая Азия является источником, донором форм, следы которых прослеживаются до высоких широт. И это подтверждается на современном уровне, с применением новейших молекулярно-генетических методов.
У исследуемых нами модельных групп уровень эндемизма в Арктике низок. То есть, видимо, эволюционные процессы здесь сильно замедлены. Отчасти это связано с тем, что арктическая область сама по себе молодая. Водные экосистемы сформировались здесь после отступления ледника, и для «продвинутой» эволюции здесь просто не хватило эволюционного времени.
С другой стороны, условия Арктики довольно экстремальны и проникнуть сюда до сих пор могли далеко не все виды пресноводных животных. Но зато тот, кто туда проникает, получает экологическое преимущество: в Арктике снижены и пресс конкуренции, и количество хищников, а число потенциальных местообитаний большое, потому что регион переувлажненный, богатый реками и озёрами.
– Максим Викторович, кроме исследований в области зоологии и биологической систематики вы также занимаетесь историей этих отраслей научного знания. Можете дать прогноз, куда движется зоология?
– По моим ощущениям, всё больше в сторону автоматизации и дегуманизации. В традиционные области биологии, такие как систематика животных, всё больше проникает искусственный интеллект. С каждым годом растёт применение математических методов, в первую очередь статистических. Это объективная тенденция, у которой есть свои положительные и отрицательные стороны.
Систематика и отчасти биогеография лет сто назад буквально третировались в среде биологов. Представители экспериментальных отраслей биологии считали, что это старомодные науки, чисто описательные и неточные. За последний век среди систематиков и биогеографов ярко проявилось стремление встать на одну доску с генетикой, биохимией – точными, экспериментальными науками. Поэтому очень широкое развитие получили разного рода статистические методы и использование искусственного интеллекта. Но у этого процесса есть одна нехорошая тенденция – в перспективе 20-30 лет большая часть традиционных функций по описанию биоразнообразия может быть полностью автоматизирована и перейдёт к компьютерам.
Лично мне бы этого очень не хотелось, но тенденция такая прослеживается. Это плохо с той точки зрения, что мы можем утратить представление о целостном организме и свести всё к набору его генов. Получается такая генетико-математическая абстракция вместо живого организма, со своим поведением, экологией, размерами и окраской тела. И, кстати, некоторые биологи нового поколения в поле вообще не ездят. Это чисто лабораторные исследователи, которые даже не всегда знают, как исследуемая зверушка живёт, как выглядит и чем питается. Они знают её в виде последовательности нуклеотидов. Конечно, это очень точно, очень объективно, но это уже не классическая естественная история, когда человек шёл в поле и сам всё изучал.
Но такова объективная реальность развития науки. Вопрос: как в ней жить? Видимо, надо стремиться к интеграции наук, чтобы задачи классификации организмов становились частью чего-то более общего. Допустим, мы должны стремиться к полному описанию эволюционной истории какой-то группы, где будет и палеонтология, и палеогеография, и генетика, и экология и т.д. В таком случае специалист по систематике может сохранить свою полезную функцию как часть команды, которая работает над чем-то более глобальным. Скажем, большинство статей, которые публикует наш коллектив, это публикации, подписанные 8-10 соавторами, иногда даже большим числом. Каждый вносит свой небольшой, но незаменимый вклад в общее дело, и в итоге получаются весьма приличные «интегративные» публикации, где биологическое разнообразие какой-то конкретной группы рассматривается почти во всех возможных аспектах – морфология, генетическое разнообразие, биогеография, систематика и многое другое.
Я полагаю, что традиционная систематика (как её представляют обыватели – сидит специалист и накалывает букашек на булавки) в профессиональном научном мире, видимо, прекратит своё существование и останется как область преимущественно для любителей. Это не очень драматично, кстати, потому что биологическая систематика – едва ли не единственная область современной науки, где любитель может внести свой большой вклад и может себя чувствовать наравне с профессионалами. В таких группах, как жуки, бабочки, раковинные моллюски до сих пор значительное число новых видов обнаруживается именно любителями.
С другой стороны, я, например, не знаю непрофессиональных учёных, которые бы изучали паразитических нематод. Поэтому любительство, даже высокого уровня, – это не спасение. Хорошо бы, чтобы систематикой занимались и профессиональные биологии. Но в нынешних условиях, когда от академических исследователей требуют цитируемости, публикаций в «престижных журналах», это выдавливает систематику на периферию биологии, снижает её привлекательность для молодых талантливых исследователей.